|
|
| |
 |
 |
 |
| |
МНЕНИЕ
Стоит ли изобретать колесо?
Эксперимент
российских последователей Милтона Фридмена - апологета
монетаристской экономики - на родных просторах потерпел
неудачу. Вполне логичным тогда становится вопрос об
актуальности для России воззрений антиподов монетаризма
- Джона Мейнарда Кейнса и его последователей. О сильных
и слабых сторонах учения кейнсианцев рассказывает преподаватель
истории, председатель новокузнецкого городского объединения
ЯБЛОКО.
На
взглядах сторонников данного экономического учения основывались
и "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта, и "Новые рубежи" Дж.Ф.
Кеннеди, и, наконец, "План возрождения Америки" нынешнего
президента США. Я уже не говорю о шведском, британском,
германском, датском, австралийском и других путях развития,
вполне достойных внимания.
Экономическая программа кейнсианцев включает в себя
всемерное увеличение расходов государственного бюджета,
расширение общественных работ, увеличение количества
денег в обращении, регулирование занятости, иначе говоря,
принципы социально ориентированной рыночной экономики.
Естественно, все это подразумевает не последнюю роль
государственных институтов, но уж, конечно, не в таком
виде, как это было при "руководящей и направляющей силе".
В числе тех, кто воспринял идеи Кейнса, был Джон Кеннет
Гэлбрейт, автор теории "нового индустриального общества",
который имеет авторитет не только кабинетного ученого,
но и практика, работавшего в администрациях Рузвельта
и Кеннеди. Так вот, он заметил, что "Кейнс лишь узаконил
то, что уже делали на практике правительства всех промышленно
развитых стран".
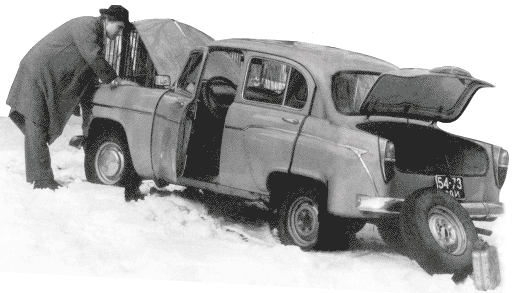 Подобно
своему духовному отцу, в собственных трудах Гэлбрейт
"узаконил" многое, чего добились в 60-70-е годы правительства
развитых стран. Он пришел к выводу, что планирование,
правительственный контроль, государственная поддержка
экономики "в поразительной степени уже стали фактами...". Подобно
своему духовному отцу, в собственных трудах Гэлбрейт
"узаконил" многое, чего добились в 60-70-е годы правительства
развитых стран. Он пришел к выводу, что планирование,
правительственный контроль, государственная поддержка
экономики "в поразительной степени уже стали фактами...".
В книге "Американский капитализм: концепция уравновешивающей
силы" Гэлбрейт ставит под сомнение точку зрения о вечно
сохраняющейся свободной конкуренции. Признав неизбежность
роста монополий и угасание свободного соперничества
предпринимателей, он указал на неэффективность антитрестовых
законов как ограничителя власти монополий. Противостоящей
силой должен стать малый и средний бизнес, поддерживаемый
государством. Результат мы уже знаем: в развитых странах
давно достигнут паритет между крупными корпорациями
и небольшими фирмами, составляющими хозяйственный комплекс
fifty-fifty. Стоит ли еще добавлять, что малый бизнес
с режимом благоприятствования со стороны государства
- это еще и новые рабочие места с зарплатой, новые налоговые
поступления, наконец, выход значительной части теневой
экономики на свет божий?
Для здорового функционирования и дальнейшего существования
развитой экономической системы важное значение имеет
стабилизация цен и заработной платы. Самой системе,
отмечал Гэлбрейт, внутренне не присуща такая способность.
Поэтому она полагается в этой области на государство,
которое стремится обеспечить достаточно высокий уровень
покупательной способности для реализации всей продукции,
производимой на данный момент существующей рабочей силой.
И если эта деятельность приводит в свою очередь к достижению
высокого уровня занятости, правительство стремится не
допустить повышения цен в результате роста заработной
платы, равно как и чрезмерного повышения последней под
давлением роста цен. Резюме Гэлбрейта должно вселить
надежду в чаяния тех, кто верит в будущее России: "Возможно,
вследствие этих мероприятий, а может быть лишь для того,
чтобы испытать человеческую способность к неоправданному
оптимизму, производство товаров в современную эпоху
достигло столь высокого уровня и действует с надежностью
хорошо отлаженного механизма".
Что касается проблем занятости, то в индустриальной
системе понятие безработицы все больше утрачивает прежний
смысл и носит, как правило, кратковременный характер.
Такая безработица существует бок о бок с острой нехваткой
специалистов. Нет ничего удивительного, что материальные
возможности индустриального общества позволяют создать
эффективную систему поддержки своих граждан в экстремальных
ситуациях. "Современный индустриальный рабочий, потерявший
или оставивший работу, может вполне рассчитывать на
получение другой. В перерыве он получит пособие по безработице;
он имеет, вероятно, некоторые личные сбережения; если
очень не повезет, он может рассчитывать на пособие по
программе борьбы с бедностью. Опасность физического
истощения в значительной мере уменьшилась". Обратите
внимание, эти слова писались более тридцати лет назад!
Можно догадываться, что сейчас речь может уже идти об
опасности лишнего веса. Впрочем, если принять во внимание
всепроникающий в развитых странах культ здорового образа
жизни, индустриальное общество справляется и с этой
проблемой.
Хотелось бы сказать еще вот о чем. По Кейнсу и кейнсианцам
роль государства в экономической жизни означает только
то, что означает: именно роль, а не примат. Главной,
если не единственной, целью государства должно быть
обеспечение экономической свободы. Осуществляя разумное
и эффективное регулирование экономики, освободив ее
от излишнего налогообложения, всевозможных ограничений,
обеспечивая гарантии частной собственности, всемерную
поддержку деловой инициативы, свободу международных
контактов, ответственная власть стимулирует экономическое
развитие.
И еще одна тема, обойти которую невозможно. Можно спорить,
что эффективнее - монетаризм или кейнсианство, но что
нельзя отбрасывать, так это опыт мирового сообщества.
Есть у нас силы, которые пытаются внушить российской
общественной мысли спасительность особого российского
пути. Сторонники обособления от мировой цивилизации
пытаются убедить остальных в том, что, дескать, западная
демократия - это система, служащая чисто земным, материальным
интересам людей, и в этом - ее ущербность и бесперспективность.
Много говорят и о духовном кризисе на так называемом
Западе. Однако реалии свидетельствуют о другом. Тот
же Запад легко доказал свои преимущества перед тоталитарными
режимами Востока, во многом побудил перемены, происходящие
в России, и самое главное - заставил нас сделать попытку
встать на путь естественного человеческого развития
на принципах свободы. Наши "славянофилы" не хотят видеть,
что материальное благополучие "за бугром" - это не только
результат высокопроизводительного труда, но и исполнение
долга общества перед своими членами и наоборот. Много
говорится и о неспособности России к демократии, якобы
порождающей один только хаос. Но ведь если посмотреть
немножко шире и дальше, то можно увидеть, какой путь
прошел Запад к становлению и укреплению демократических
начал. Мы же хотим получить все и сразу. Прав был сатирик,
сказав, что только в русских сказках так много "халявы".
Между тем, демократия является сегодня единственным
путем, возвращающим нас к нормальной, естественной жизни,
которой живет весь мир.
Безосновательными выглядят и попытки некоторых политиков
и экономистов найти для страны какой-то особенный путь.
В этой связи я хотел бы напомнить полезный опыт "архитекторов"
реформ в Чехословакии 1965-68 годов. Сначала они искали
"социализм с человеческим лицом", потом, уже после поражения
Пражской весны, - некий третий путь - не капиталистический
и не сталинистско-социалистический. В конце концов один
из идеологов чехословацких реформ Ота Шик признал, что
"никакого третьего пути не существует. Это такой же
нонсенс, тупиковый вариант, как и социали-стический".
Не стоит, видимо, изобретать колесо и нам.
|
|
 |
 |
 |
|
|
|