|
|
| |
 |
 |
 |
| |
ЭКСПЕРТИЗА
Мифы и реалии рынка труда
Заметки по случаю первой годовщины
кризиса, начавшегося 17 августа 1998 года
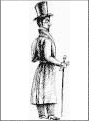 В
канун годовщины августовского кризиса у меня брали интервью.
Понятно, что вопросы задаются, а ответы редактируются в
соответствии с редакционной политикой. Если хочешь сказать
что-то совсем иное или просто больше, садись, пиши статью
и пристраивай в близкую по духу редакцию. Так я и сделал.
Из вопросов, которые задавали, больше всего запомнился один:
"Когда, на ваш взгляд, ситуация на рынке труда нормализуется?"
На что я вполне искренне ответил, что считаю сегодняшнюю
ситуацию на рынке труда гораздо более нормальной, чем было
до 17 августа 1998 г. В
канун годовщины августовского кризиса у меня брали интервью.
Понятно, что вопросы задаются, а ответы редактируются в
соответствии с редакционной политикой. Если хочешь сказать
что-то совсем иное или просто больше, садись, пиши статью
и пристраивай в близкую по духу редакцию. Так я и сделал.
Из вопросов, которые задавали, больше всего запомнился один:
"Когда, на ваш взгляд, ситуация на рынке труда нормализуется?"
На что я вполне искренне ответил, что считаю сегодняшнюю
ситуацию на рынке труда гораздо более нормальной, чем было
до 17 августа 1998 г.
В
массовом российском сознании существует много мифов, в том
числе связанных с нашей экономикой и ситуацией на рынке
труда. Как правило, все они держатся на простом и популярном
сюжете: до 17 августа все было хорошо, а потом стало плохо.
Попробую прокомментировать некоторые из подобных мифов.
Миф
№ 1: Решения, подписанные Сергеем Кириенко 17 августа
1998 г., ввергли Россию в пучину кризиса.
В апреле 1998 г. Кириенко возглавил правительство страны,
которая уже фактически была банкротом. Еще задолго до его
прихода на пост премьера государство набрало долгов, в том
числе пообещав своим кредиторам безумно высокие проценты
(например, по ГКО). Любому, кто разбирается в макроэкономике,
было ясно, что по таким долгам Россия рассчитаться не сможет.
Как впрочем, и любое другое государство, если бы оно набрало
столько долгов на таких же условиях. Кое-какие бреши в российском
бюджете за счет этого удавалось временно заткнуть. Но главным
было не это. Выплата новых государственных долгов и процентов
по ним стала мощным легальным насосом для перекачивания
денег от государства в частные структуры. Государство беднело
и неумолимо шло к банкротству, а многие российские и зарубежные
финансовые структуры от этого только богатели. Если же кто-то
зарвался от безнаказанности и не "сбросил" сомнительные
государственные долговые обязательства до 17 августа, то
он понес убытки. Но в основном они были переложены на рядовых
вкладчиков "разорившихся" банков и на то же государство,
то есть на налогоплательщиков.
Центробанк РФ своими действиями также внес колоссальный
вклад в доведение России до банкротства. Поддерживая в течение
длительного времени явно завышенный курс рубля (на уровне
шести рублей за доллар), он регулярно выбрасывал на аукционы
принадлежащую государству валюту. А банки "по дешевке" скупали
ее для своих клиентов-импортеров и для своих собственных
целей. В период, предшествующий кризису, Центробанк РФ (кстати,
не подчиняющийся Правительству РФ), тратил миллиарды и миллиарды
долларов государственных денег на поддержание совершенно
нереального курса рубля. Это стало еще одним легальным насосом
для выкачивания денег из государства в частные структуры.
В экономике действует закон сохранения денег, аналогичный
закону сохранения энергии в физике. Деньги, которые кто-то
теряет (например, государство или вкладчики финансовых пирамид),
не исчезают. Они просто переходят к другим владельцам.
Возможно, Сергей Кириенко понимал, что соглашается возглавить
правительство страны, объявить о банкротстве которой ему
неизбежно придется в скором времени. Если бы решения, подписанные
премьером 17 августа 1998 г., были приняты хотя бы на несколько
месяцев раньше, наше государство было бы богаче на много
миллиардов долларов. И у него не было бы сейчас таких долгов
по пенсиям, детским пособиям, оплате труда учителей, врачей
и многих других.
17 августа 1998 г. были достаточно решительно разрушены
два самых главных насоса, с помощью которых деньги легально
и в огромных масштабах перекачивались от государства в частные
структуры. Развеялась видимость благополучия (относительно
стабильные цены, "хороший" курс рубля, высокие зарплаты
в коммерческих структурах и др.). "Докризисный" румянец
на лице российской экономики оказался чахоточным румянцем.
Виноват ли в этом Кириенко? Думаю, что он лишь честно объявил
о состоявшемся банкротстве государства. Откладывать дальше
такое объявление было бы равносильно самоубийству для экономики.
Я не считаю 17 августа 1998 г. "черным днем". Скорее это
был день, с которого началось серьезное оздоровление нашей
экономики.
Миф
№ 2: До кризиса экономика была более благополучной,
и поэтому работникам платили больше, чем сейчас.
Если тяжело больного человека накачать соответствующими
лекарствами или наркотиками, он на время может обрести бодрый
и здоровый вид. С российской коммерцией до 17 августа 1998
г. происходило примерно то же самое. Мощные насосы, упомянутые
выше, производили денежные вливания в финансово-банковскую
сферу и торговлю. Эти вливания действовали как наркотики,
они необоснованно "разогревали" экономику и создавали видимость
улучшения и относительного благополучия.
Интенсивнее других развивали свою деятельность компании-импортеры,
в том числе многочисленные представительства инофирм-производителей.
Они расширяли свое присутствие в регионах, предлагали своим
сотрудникам оплату труда, часто многократно превышающую
средние рыночные величины. Похожая картина имела место в
финансово-банковских и инвестиционных компаниях, а также
в ряде отраслей бизнес-услуг (реклама, аудит, консалтинг,
рекрутмент и др.) Те 10-15% населения, которые неплохо "кормились"
от относительно преуспевающих отраслей бизнеса, становились
покупателями зарубежных туров и импортных автомобилей, посетителями
ресторанов и т.п. Картина быстро и значительно изменилась,
как только после 17 августа 1998 г. резко прекратилась "наркотизация"
российской экономики.
Вместо искусственно заниженного курса доллара мы имеем вполне
реальный и стабильный, для поддержания которого теперь не
требуются постоянные валютные интервенции ЦБ РФ. Это благотворно
сказалось на бизнесе экспортеров, а также сделало продукцию
российских производителей более конкурентоспособной на внутреннем
рынке. Невозможность сорвать "шальные" деньги на государственных
кредитных бумагах толкает держателей капиталов на поиск
других путей их применения. Это повышает интерес капитала
к "реальному" сектору экономики, инвестициям и кредитованию.
Экономика стала гораздо более "нормальной", чем прежде.
Главное же достижение заключается в том, что предприниматели
были поставлены перед необходимостью вести бизнес экономнее.
Не платить завышенную зарплату, отказаться от излишнего
персонала, снизить арендные платежи, сократить затраты на
внешние бизнес-услуги (например, на подбор персонала через
рекрутинговые агентства).
Те, кто постарше, помнят один из лозунгов брежневских времен:
"Экономика должна быть экономной!" Над этим посмеивались,
как и над многим другим, исходившим от КПСС. Но именно этот
лозунг в нашей сегодняшней ситуации абсолютно верен. Если
механизмы, регулирующие экономику, не вынуждают предпринимателей
быть бережливыми, то такая экономика становится неконкурентоспособной.
После 17 августа 1998 г. наша экономика стала гораздо более
экономной и, как следствие, более здоровой. Оплата труда
во многих коммерческих структурах снизилась примерно в 1,5
- 2 раза в долларовом исчислении, хотя при этом рублевая
оплата выросла. Пенсии, пособия, оплата труда в государственных
структурах и на многих производственных предприятиях если
и выросли (в рублях), то незначительно. Цены поднялись,
общий уровень жизни опять снизился. Хочешь - не хочешь,
но нужно быть еще более экономным. При этом произошло некоторое
выравнивание уровней оплаты труда. В основном, за счет более
значительного снижения в тех коммерческих структурах, которые
выгадывали от "наркотизации" экономики.
Российская экономика стала значительно более разумно устроенной,
чем год назад. Большинство компаний перестроились для работы
в изменившихся условиях. Кто-то сократил бизнес, но кто-то
его расширяет. Дела стали вестись более бережливо. И та
оплата труда, которую сегодня имеют работники коммерческих
структур, является гораздо более правильной, чем это было
до 17 августа 1998 г. Может быть, кому-то это обидно признать,
но предлагая себя на рынке труда, мы получаем в среднем
ту цену, которую мы действительно стоим. А если по каким-то
причинам идет регулярная и достаточно массовая переплата
(как до кризиса), то это и приводит к кризису.
На что можно рассчитывать в будущем? Рост реальной оплаты
труда будет теперь гораздо плотнее увязываться с состоянием
экономики. Не будет улучшаться экономика - не будет роста
оплаты труда. А еще одного спада, подобного произошедшему
после 17 августа 1998 г., можно ожидать в случае, если государство
опять пустит в ход насосы, о которых речь шла выше. Но пока
этого, к счастью, не происходит. И вероятность этого теперь
много меньше, чем прежде.
Миф
№ 3: Ситуация на рынке труда после 17 августа 1998
г. резко ухудшилась и неизвестно, когда выправится.
Осенью 1998 года многие газеты и журналы в панических тонах
писали о катастрофе на рынке труда, о массовых увольнениях,
об огромном сокращении числа рабочих мест и соответствующем
росте безработицы, о новых массовых проблемах с поиском
работы. Издания, особенно те, благополучие которых во многом
зависит от продажи тиража, были вынуждены учитывать один
из законов своего бизнеса: "Хорошая новость не продается!",
ситуация усугублялась тем, что об этой модной теме стали
писать журналисты, весьма некомпетентные в вопросах рынка
труда.
В действительности ситуация на рынке труда развивалась отнюдь
не катастрофически. В сентябре-ноябре 1998 г. во многих
компаниях, особенно в инофирмах, прошли большие сокращения
сотрудников. Количество резюме, получаемых московскими кадровыми
агентствами, выросло в 3 - 5 раз (это вовсе не значит, что
в таких же масштабах снизилась занятость населения). В целом
компании сократили набор новых работников. Количество объявлений
о вакансиях, публикуемых в СМИ, сократилось примерно вдвое.
Но при всем этом новых толп безработных в стране не появилось.
Почему?
Во-первых, масштабные сокращения сотрудников затронули сравнительно
узкий круг коммерческих компаний, не определяющих ситуацию
с занятостью населения в целом. В Москве изменения оказались
более заметными, так как здесь сосредоточено особенно много
коммерческих фирм.
Во-вторых,
многие компании довольно быстро "зализали раны", адаптировались
к новым условиям, возобновили свое развитие и набор персонала.
Проведенные нами в ноябре и декабре 1998 г. опросы менеджеров
по персоналу торговых и производственных компаний показали,
что уже тогда доминировали оптимистические настроения. Большинство
считало, что в конце 1998 года будет пройдена нижняя точка
спада на рынке труда, в первой половине 1999 года начнется
подъем и к середине года общая численность занятых восстановится.
Примерно так оно и оказалось.
Общие показатели официально зарегистрированной в России
безработицы не увеличились. Потоки резюме в кадровых агентствах
существенно сократились. А объемы газет, публикующих вакансии,
опять выросли. И даже появляются новые подобные издания.
Наконец, не произошло массового вымирания агентств по подбору
персонала, чего опасались скептики. А раз компании по-прежнему
готовы платить за услуги по подбору персонала, значит, ситуация
на рынке труда отнюдь не катастрофическая.
Важные тенденции российского рынка труда, проявившиеся в
последние месяцы, хорошо показаны в кратком анализе, который
я недавно получил от своих коллег из Кадрового центра ЮНЕСКО-МЕТРОПОЛИС,
г. Екатеринбург:
Исчезли
послекризисные настроения работодателей по поводу того,
что существует избыток хороших специалистов, что найти хорошего
специалиста не стоит большого труда и не обязательно ему
много платить.
Меняется состав заказчиков и география вакансий.
Известно, что раньше всего пришли на наш рынок в качестве
заказчиков на подбор персонала иностранные компании, затем
- московские. Теперь у нас все больше заказов появляется
от местных производителей товаров и услуг, в том числе от
таких, которые открывают свои представительства в других
городах.
Увеличивается стоимость заказов на подбор персонала,
растет заработная плата для классных специалистов.
Изменилась структура вакансий. Спрос на специалистов
в области сбыта остается высоким, но все чаще требуются
технические специалисты. В числе заказчиков уменьшается
доля торгующих компаний, увеличивается доля производящих
компаний.
В настоящий момент таких заказов у нас больше половины.
Это технические директора, главные инженеры, начальники
участков, строители, энергетики, автодорожники, металлурги.
Нашими заказчиками все чаще становятся те, кто раньше не
мог допустить мысли, что придется платить деньги за то,
чтобы нанять хорошего специалиста.
Изменились требования заказчиков к кандидатам. Увеличивается
диапазон допустимых значений по возрасту, все чаще допускаются
к участию в конкурсе женщины, и это отрадно. Все больше
в цене профессионализм, качество базового и дополнительного
образования.
Изменились ожидания кандидатов. Для кандидатов большее значение
имеет не столько размер базового оклада, сколько прозрачность,
определенность, реальность системы бонусов, премий. По-прежнему
отношение компании к КЗОТ и компенсационный пакет очень
важны для кандидатов в нашем регионе.
Высокий уровень развития рынка кадровых услуг в Екатеринбурге.
Количество соответствующих лицензий, выданных местным департаментом
по труду и занятости, - 54 (еще около 20 готовят пакет документов
на лицензирование); количество рекрутинговых агентств, которые
не берут денег с населения, - около 15; создана Уральская
ассоциация рекрутинговых агентств; существуют два специализированных
периодических издания для публикации вакансий.
Если
не считать снижения уровня оплаты труда, то по большинству
других основных показателей ситуация на рынке труда сейчас
уже не хуже, чем до 17 августа 1998 г. Это касается не только
Москвы, но и российских регионов. А если судить не только
по внешним показателям, а заглянуть глубже, то рынок труда
на сегодня стал более здоровым и правильным. И перспективы
его дальнейшего развития достаточно оптимистичны.
|
|
 |
 |
 |
|
|
|