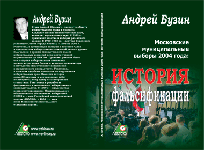|
Андрей
Бузин |
||
Фальсификация
итогов голосования |
В некоторых районах в избирательные бюллетени все же попали нежелательные кандидаты. В частности, в избирательных бюллетенях оказалось довольно много кандидатов от КПРФ, так как к ним невозможно было применить технологию «отказа по подписным листам»: выдвинутые КПРФ кандидаты, так же как и кандидаты от «Единой России», не обязаны были собирать подписи. Там, где новый состав муниципального собрания мог оказаться «опасным» для местной исполнительной власти (Крылатское, Дмитровский, Гагаринский и другие), власть пошла на прямую фальсификацию итогов голосования. Еще раз повторим, что в последние несколько лет прямые фальсификации в Москве практически не применялись; результат достигался более изощренными методами. Но малый интерес населения к местным выборам и более низкая квалификация муниципальных чиновников привели к тому, что на выборах 2004 года фальсификации были не только замечены, но в некоторых случаях даже задокументированы. Поскольку фальсификация избирательных документов является уголовным преступлением, постольку в этих случаях невозможно было обойтись без прикрытия со стороны судебного и прокурорского флангов. Судебные процессы по фальсификациям оказались еще более показательными по сравнению с процессами об отказах в регистрации, так как сами по себе нарушения были более наглядными. Основной технологией прямых фальсификаций было переписывание протоколов участковых избирательных комиссий. С одной стороны, эта технология менее трудоемка, чем, например, вбрасывание или подмена бюллетеней, с другой стороны, при наличии наблюдателей, эта технология легче разоблачается. В том случае, если суд имеет перед собой два протокола – один от наблюдателя, а другой «повторный», а в действительности сфальсифицированный в орготделе управы, – и эти протоколы отличаются друг от друга, было бы естественным признавать выборы на данном участке недействительными. Собственно, в некоторых случаях так и произошло (Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники). Но в особо «опасных» для власти случаях суд, вопреки очевидным доказательствам, отказывался отменять выборы. Приведенные ниже примеры фальсификаций основаны на материалах судебных разбирательств, о которых у нас имеются сведения. Представляется, что подавляющая часть фальсификаций осталась незафиксированной. Следует заметить, что на многих избирательных участках (а их в Москве 3200) квалифицированные наблюдатели просто отсутствовали. Наглость, с которой действовали фальсификаторы, прикрываемые с тыла прокуратурами, а в некоторых случаях и судами, позволяет предположить, что фальсификации на этих выборах были массовыми. |
 |